Марина написал(а):Буду ждать с нетерпением!!!!!
Пожалуйста! 
Интервью из журнала "7 дней" годовой давности.
— Елена Всеволодовна, в конце прошлого года вышел фильм
«Похороните меня за плинтусом», поставленный по мотивам повести вашего сына Павла Санаева. Но ведь роль бабушки должны были играть вы, почему же этого не случилось?
— Если бы картину снимал Паша, как сначала и планировалось, то я, безусловно, сыграла бы. Никакого труда мне это не составило бы, потому что бабушка у меня, что называется, в порах сидит. Я все-таки острохарактерная актриса, а эту роль невозможно играть без гротеска, без юмора. С Пашей мы уже поработали вместе на его предыдущей картине, так что все бы у нас сладилось. Повесть хотели экранизировать и Алексей Учитель, и очень талантливый молодой режиссер Андрей Прошкин. Глеб Панфилов просил ее у Паши для Инны Чуриковой. Но он все же хотел снимать сам, написал сценарий, за который получил премию… А потом, подумав,
отказался по разным причинам. Это все равно что дважды войти в одну и ту же реку. Паша ведь знает цену повести, какую он написал. Если бы картина не получилась, а за те сравнительно небольшие деньги, которые выделили на эту работу, так вполне и могло произойти, то все бы сравнивали фильм и книгу не в пользу первого… В общем, картину снял Сергей Снежкин, но меня он все же попробовал и сказал, что я слишком молода для этой роли и что у меня нет злости. Ну злость — это самое примитивное, что можно играть. Я говорила Паше: «Сынок, если не ты ставишь, то играю не я». — «Нет, мама, этого не может быть. Только на этих условиях я подписывал договор со студией. Паша увидел кинопробы, и они его насторожили — уже там был виден крен в сторону «чернухи» и полное отсутствие юмора. Он полетел к Снежкину в Петербург, разговаривал с ним о том, какой, по его мнению, должен быть фильм. Но понимания не нашел. Снежкин объяснил, что «профессия режиссера сучья», на что Паша сказал: «Я так не думаю. И тебе не следует снимать эту картину». Хотел даже забрать сценарий, но, когда выяснилось, что должен будет заплатить огромные деньги в качестве неустойки, пришлось сдаться. По словам самого Снежкина, этой картиной он решил рассчитаться с «Софьей Власьевной» — так он называет советскую власть. Все герои такие жестокие, потому что рождены этой самой властью… Ну может, оно так и есть, но только ведь эта «Софья Власьевна» его, Снежкина, бесплатно выучила профессии, а потом давала возможность снимать хорошее кино и руководить на «Ленфильме» студией «Бармалей», которую организовал для него Ролан Быков. Чего уж ему-то на эту «Софью Власьевну» так обижаться?
— Какое впечатление на вас произвела повесть вашего сына? Как говорил сам Павел, она не автобиографическая, но правды там много…
— Ну я поплакала, конечно, и посмеялась. Да, Паша написал все очень откровенно, но откровенность тоже разная бывает. Когда ты исповедуешься и при этом тобою движет любовь — это та мера открытости, которая приводит на территорию искусства. При этом в повести есть некая отстраненность, и она дает возможность с юмором посмотреть на себя и своих близких. Поэтому так поддержал Пашину повесть Ролан Быков. Но мы не давали ее читать моему папе, он бы ее не понял и не простил бы Пашу, которому отдал свое сердце и любовь. Для меня самое дорогое в книге даже не то, что люди ее перечитывают, дарят друг другу и при этом совершенно не думают о том, происходило ли все это в конкретной семье Санаевых, Петровых или Сидоровых. Они примеряют ее на свою жизнь, на жизнь своих знакомых, и некоторые делают серьезные выводы о том, что любовь иногда может быть удушающая, может приносить несчастье и надо все в жизни соизмерять.
— Именно такой удушающей любовью любила и мучила вас ваша мама?
— Мама была очень ярким и одаренным человеком. Тонкого ума, ироничная, много знающая. Можно сказать, что мой папа состоялся как артист не только благодаря своим учителям — Плотникову, Тарханову и великим мхатовцам, с которыми проработал много лет, но и благодаря маме. Она учила, разбирала с ним роли. К сожалению, так получилось, что сама
мама осталась без профессии. Посвятила себя нам — мне, папе, потом Паше. Но чтобы чувствовать себя счастливой, этого оказалось недостаточно. Она говорила: «Вы уходите каждое утро, у вас свои заботы, а у меня что — кастрюли, готовка, стирка». Маме с ее активным характером хотелось быть в коллективе, заниматься каким-то интересным делом. А этого она была лишена. Вспомните еще ту атмосферу, в которой жили наши родители. Ведь сталинский режим уничтожил миллионы людей не только в тюрьмах и лагерях. Сколько было пролито невидимых миру слез? Коверкались и ломались судьбы нескольких поколений. Страх ареста, разъедающий душу, коснулся и моей мамы. Мы жили тогда в коммунальной квартире, и на кухне она рассказала анекдот. Через несколько дней пришли люди, стали расспрашивать соседей: «Санаева — кто
такая? Почему не работает?» Когда мама об этом узнала, вместе со мной помчалась к своей приятельнице, а та ей говорит: «Да разве можно такие вещи рассказывать! Ты посмотри, что творится вокруг. Вот этого взяли, и этого посадили…» Пятидесятые годы, «дело врачей» в разгаре. И мама заболела — у нее началась мания преследования. Она разбила крохотный пузырек с духами, который ей папа привез из Югославии, порезала свою шубу, уничтожила открытки с видами Белграда, потому что все это могло свидетельствовать о ее «связи с заграницей». Я помню, как мы ехали в троллейбусе и вдруг маме показалось, что кто-то на нее пристально смотрит. Она испугалась, что ее сейчас арестуют. Поэтому схватила меня за руку, и на следующей остановке мы выскочили. Мама поймала такси, привезла меня домой, спрятала под пуховое одеяло и зашептала: «Доченька, когда за мной придут, ты папу не оставляй. Помни, что я тебя любила…» Папа был вынужден положить маму в больницу, где ее полгода лечили инсулиновым шоком. Мания преследования никогда к ней больше не возвращалась, но появились депрессии. И потом человек, побывавший в психиатрической клинике, получал клеймо на всю жизнь. Соседки на коммунальной кухне изводили ее, кто-то смотрел косо, а кто-то еще и говорил: «Ну мы же знаем, где вы были!» Все это не могло пройти для мамы бесследно. Спустя несколько лет, когда мы уже переехали в отдельную квартиру, позвонила бывшая соседка и сказала: «Лидия Антоновна, простите меня за то, что я так издевалась над вами. Иначе я не смогу спокойно умереть». Мама разрыдалась и бросила трубку, настолько тяжелыми для нее оказались эти воспоминания. Что говорить, страдалица она была. Ее жизнь сложилась просто трагически. В Алма-Ате в жутких условиях эвакуации мама потеряла первенца, совершенно дивного мальчика, которого моя бабушка не могла забыть до своего смертного часа. Потом родилась я, была очень болезненная, и мама так меня любила и так за меня боялась, что, если я падала на улице, могла еще и наподдать мне. Представляю, какой ужас она испытала, когда в пять лет я заболела инфекционной желтухой. Почему я подобрала кусок сахара в нашем дворе, где бегали мыши и крысы, не знаю. Ведь разумная девочка была, не голодала. И хотя мама тут же заставила меня этот сахар выплюнуть, было уже поздно. Я чуть не умерла, выжила только благодаря маме. Папа работал с утра до ночи, чтобы заработать деньги на врачей. Тогда ведь никаких лекарств, кроме сахарного сиропа, от этого заболевания не существовало. Меня лечили знаменитые гомеопаты. Мама, отказывая себе во всем, покупала лучшие продукты, деревенский творог, отпаивала меня сахарным сиропом и соком лимонов, которых тогда было не достать. И молилась. Меня даже крестили, хотя в те времена такой поступок считался предосудительным. К нам домой, в коммунальную квартиру, пришел батюшка и по всем правилам совершил таинство, а потом надел на меня медный крестик. Я его носила, пока не пошла в школу, и до сих пор он у меня хранится. Когда мне стало немного легче, мама на руках таскала меня в чудный сквер у Дома пионеров. А это было очень далеко от нашего дома. Случалось, что прохожие говорили маме: «Такую кобылу на руках носит!»
Мама снова спасала меня, когда я уже училась в театральном институте. Мой организм не выдерживал напряженного графика репетиций и прогонов. Мы приходили в училище к 11 утра, а домой уезжали в 11 вечера. Поднималась температура, я не могла встать с постели, болела печень, видимо, сказывались последствия желтухи. И мама старалась, чтобы я соблюдала диету. Договаривалась в поликлинике Союза писателей, которая находилась напротив нашего дома, чтобы мне делали там внутривенные вливания, кололи витамины, давала деньги на такси туда и обратно.
Всю жизнь мама тосковала по Киеву: это ее родной город, с которым было много связано — юность, первая любовь, надежды на счастье… Когда я была маленькая, то каждое лето мы на месяц-полтора обязательно ездили туда к маминым родителям. Свою киевскую бабушку Дарью Нестеровну я очень любила. Они с дедушкой Антоном Григорьевичем жили в Михайловском переулке, в крошечной комнате жестокой коммуналки — их дом разбомбило во время войны. Бабушку немцы чуть не расстреляли прямо на улице, приняв ее за цыганку, а она была наполовину украинка, наполовину болгарка. Спасибо, люди отбили… В этой 8-метровой комнатке мне очень нравилось. На широком подоконнике там всегда стояли бутыли с домашней наливкой из вишни и черной смородины. На шкафу — банки с вареньем, которое бабушка варила и которое потом мы забирали в Москву. По утрам со двора раздавались «Голубка», «Кукарача» и другие известные песни. Бабушка давала нам с мамой пакетики с едой, и мы шли гулять на Владимирскую горку, домой приходили только к вечеру. Ужинали, затем мама меня оставляла, а сама шла ночевать к подруге, потому что здесь ей уже негде было спать. Бабушка ложилась на пол, дедушка — на
кровать, а я спала на диване. Дедушка так и не дождался нормального жилья, умер в этой 8-метровой комнатке. А бабушка была потом очень благодарна папе, потому что он приехал в Киев и выхлопотал для нее лучшую комнату в этой же квартире.
— Ваш папа Всеволод Санаев был народным артистом СССР, ему полагались определенные привилегии?
— Ну он же не сразу стал народным. Во всяком случае, двухкомнатную кооперативную квартиру у метро «Аэропорт» папа смог купить только в 1959 году, когда ему было 47 лет. И произошло это во многом благодаря тому, что мама практически не тратила на себя денег, а откладывала каждую копейку. А до этого мы несколько раз переезжали из одной коммуналки в другую. Мама уговаривала папу: «Сева, давай возьмем трехкомнатную квартиру». «Ты что, с ума сошла?! — отвечал он. — У меня был инфаркт, я могу не расплатиться. Что ты будешь без меня делать?» У папы действительно в 35 лет на съемках случился обширный инфаркт, и мама жила в постоянном страхе за нас. Потом, когда родился Паша, всю свою любовь и заботу перенесла на него. Я тогда много снималась, потом везде как хвост моталась за Роланом, и сын с четырех с половиной лет жил с моими родителями. Но, к моему сожалению, для мамы Паша стал еще и инструментом манипулирования мной и папой. Она была настроена против Ролана Антоновича, считала, что наши отношения ничем хорошим не закончатся. И всячески давала мне понять, какую глупость я совершаю. Папа, кстати сказать, ее в этом поддерживал.
— У них были для этого основания?
— Как только мы с Быковым стали жить вместе и по Москве поползли слухи о нашем романе, бывшая жена Ролана Лидия Николаевна Князева позвонила моей маме и сказала: «Я ничего не имею против Лены, я ее не знаю, и с Быковым мы расстались до того, как они встретились. Но хочу вас предупредить: он сломает ей жизнь. У меня на антресолях лежит мешок писем от женщин, адресованных ему…» Зачем она это сделала, я не знаю, но на маму ее слова произвели неизгладимое впечатление. Потом еще звонили другие «доброжелатели», говорили: «Что вы, Быков — такой разгульный, у него столько романов». Наверное, моим родителям хотелось, чтобы я выбрала себе в мужья человека, по их понятиям, положительного, надежного. А Быков — это же Бармалей, поющий странную песню про «нормальных героев,
которые всегда идут в обход»! Он казался им неуправляемой ракетой: куда его занесет — непонятно. И отношения с властью у Быкова были не самые теплые. Его называли «героем запрещенных картин»: фильмы, где он сыграл свои лучшие роли — «Комиссар», «Проверка на дорогах», тогда уже лежали на полке. Как говорил Ролану его папа Антон Михайлович: «Ты у них «пiд пiдозрением».
— Вас эти слухи не пугали?
— А я не загадывала, как сложится наша жизнь, видела, что Ролан — сложный человек, с огромным жизненным опытом. Хотя Быков с первой же нашей встречи на съемочной площадке заговорил о своей любви и совершенно серьезно звал замуж. Это при том, что отношения у нас начались почти с конфликта. Мы снимались в фильме Юрия Рогова «Докер» в Кишиневе, но я параллельно работала в другой картине, откуда меня не отпускали. К ранее оговоренным срокам я не успевала. А Быкову же все время некогда, он сам одновременно снимался в нескольких картинах, кроме того занимался собственным фильмом «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Собираясь в Кишинев, предложил лететь вместе. Но я отказалась, объяснила, что самолетом не летаю, а поездом смогу выехать дня через три. Мне стали звонить ассистенты: «Елена Всеволодовна, если вы срочно не приедете, вместо вас снимут другую актрису». Потом позвонил режиссер: «Лен, что мне делать?! Я буду вынужден взять другую актрису». Наверное, мне нужно благодарить Ларису Малеванную, которая заболела гриппом и только поэтому меня отпустили на два дня раньше, а иначе наша встреча с Роланом не состоялась бы. Приезжаю, ассистентки прячут глазки. Вечером встреча с режиссером: «Я так рад, что ты приехала!» Выпили по бокалу вина. «Ну и кого ты позвал вместо меня?» — спрашиваю. «Да Майя Булгакова уже три дня сидит в цековской гостинице…» Если бы мне в Москве об этом сказали, я, может, и не поехала бы в Кишинев, потому что никогда в жизни за роли не боролась. Но я приехала, у меня, как у штатной актрисы киностудии «Мосфильм», наряд на работу, а у Булгаковой нет наряда. (Смеется.) Поэтому я сказала: «Значит, так, Майю отправляй обратно, а играть буду я». И на следующий день мы встретились с Быковым в декорациях барака, где по сценарию жила артель портовых рабочих, а нам выделили отдельную комнату, потому что играли мы мужа и жену. Уже во время репетиции Быков неожиданно решил, что обязательно должен меня целовать. В сценарии
никаких поцелуев не было, но спорить я уже побоялась. Заартачишься, скажет: «Ну и артистка! Самолетом она не летает, целоваться в кадре отказывается — пава какая!» В общем, съемка… и после первого же дубля объявляют перерыв. Поцелуй Быкова оказался настолько страстным, что у меня разнесло верхнюю губу — не то что снимать, самое время какую-нибудь бодягу прикладывать. Все вышли, а Быков прилег на кровать: «Леночка, не уходите, пожалуйста. Присядьте». Я села рядом на стул, он взял мою руку и приложил к своей груди: «Вы слышите, как колотится мое сердце? Вы такая красавица, но вы замужем, а я влюблен. Что же делать?» Ну я руку аккуратненько убрала и говорю: «Что делать? Роли свои играть». И ушла. Между прочим, Быков приехал в Кишинев не один, а с женщиной. На другой день они вместе укатили, и в свои следующие приезды Быков был уже один. И опять разговоры о любви. Таких горячих и страстных признаний я за свою жизнь не слышала… Заканчивали мы картину в Ленинграде, на «Ленфильме». Там снимались «Шинель», «Проверка на дорогах», другие фильмы — это была «его» студия. За время совместной работы я увидела, как там ценят и любят Быкова. Поняла, что он безумно талантливый человек. Вместе с тем в нем чувствовалась какая-то внутренняя неприкаянность. Ну и в конце концов крепость пала, и закружилась наша с Роланом жизнь.
— Получается, что Быков вас заговорил и уговорил?
— Не зря у него столько поклонниц было, ведь женщины действительно любят ушами. Но не только в словах дело… Он отличный парень был, хороший товарищ, широкий, щедрый
человек, очень мудро и по-доброму относился к людям.
Это странно, но я забыла, как Ролан впервые сделал мне официальное предложение. Наверное, потому, что он постоянно говорил о любви, о том, чтобы я выходила за него замуж. Мне этот эпизод позже напомнила Мариша Волович, второй режиссер на картине «Автомобиль, скрипка и собака Клякса». Мы сидели в таллинском ресторане «Лидо», была очень симпатичная компания — Миша Козаков, Николай Гринько, Зяма Гердт, все с женами. Быков встал на колени и сказал: «Леночка, я вас люблю и прошу быть моей женой».
— С материальной точки зрения Ролан Антонович считался завидным женихом?
— Нас так воспитывали, что мы особо не думали о материальной стороне жизни. Мне было важно, чтобы трех рублей в кошельке хватило до зарплаты. А для Ролана — наличие чистой сорочки и пятерки на такси. Так как он тогда снимался, что называется, в хвост и в гриву, мы не бедствовали. С первого же дня нашей совместной жизни все деньги, которые зарабатывал, он отдавал мне. Ролан тогда жил с мамой. Конечно, Ольга Матвеевна о нем заботилась, следила за ним. Но в его платяном шкафу висели всего лишь неподъемное, как дом, пальто, два костюма, трикотажный пуловер с потертыми манжетами и купленный в городе Минеральные Воды белый вязаный свитер, слегка свалявшийся от стирки. Тотальный же дефицит существовал, да и некогда было Ролану своим гардеробом заниматься — он же всегда в работе, в полете, в цейтноте. Но, оказавшись на съемках в Таллине, мы быстро нашли
там закрытую торговую базу, где немедленно купили Ролану элегантное демисезонное пальто, плащ, костюмы, рубашки… Он был очень доволен.
Я переехала к Ролану и тут же занялась обменом. Вскоре с доплатой поменяла их с мамой убогую квартирку в панельном доме на улице Народного Ополчения на квартиру в кирпичном доме на Пятницкой: одна комната сапогом, вторая, побольше, служила нам и гостиной, и кабинетом, а третья в форме трапеции была самая маленькая. Я-то думала туда Пашу поместить, а Ольгу Матвеевну — в мою квартиру, на улицу Черняховского. Мало ведь кто захочет жить со свекровью. Тем более что Ольга Матвеевна была очень властная женщина. Как говорил ее внучатый племянник: «Оля может достать гланды через почки». Это правда. Крошечная, но абсолютно несгибаемая, она обожала своих
сыновей, гордилась тем, что она — мама Ролана Быкова, и считала, что та женщина, которая окажется с ним, должна руководствоваться исключительно ее рекомендациями. Причем это касалось всего, вплоть до варки борща. Я никогда не скандалила, не выясняла отношений, где-то и подчинялась по доброй воле, но все же чаще старалась уходить из дома вместе с Роланом. Тем не менее семь лет мы с ней прожили, и в результате она меня полюбила. Но тогда отселить ее не получилось. Напротив, Ольга Матвеевна всячески меня убеждала, что Паше будет лучше с моими родителями. А я без него с ума сходила, тосковала очень. Конечно, спасали роли, поездки, интересная жизнь с Роланом… Но наступил такой момент, когда я готова была даже расстаться с ним, но Пашу забрать, больше не представляла своей жизни без сына. И Ролан это понял: «Давай Пашу забирать». А как — непонятно.
Каждый мой приход в дом родителей заканчивался скандалом с мамой. Всю обратную дорогу я рыдала, иногда даже думала: под поезд мне, что ли, в метро броситься или под машину... Понимала, что этого не сделаю, потому что у меня сын и так растет без отца. Но как жить дальше, я не знала. Приезжаю домой к Ролану, там меня встречает свекровь, называет исключительно Леночкой, но бешено ревнует к сыну. И я вижу, что она-то живет вместе со своим уже взрослым сыном. А у меня сердце разрывается без моего Паши. И тут звонит мама, которая, оказывается, не все мне высказала, и что-нибудь такое «досыплет», так зацепит, что я начинаю орать, теряя человеческий облик. Бросаю телефонную трубку и потом целый час рыдаю. Вот такой маленький итальянский дворик. Однажды я Пашу выкрала из квартиры, когда мама ушла
в магазин, — пришла, одела и увела. Вскоре мы поехали в Ленинград, и Паша там заболел. У него очень часто случались бронхиты, воспаления легких, и в очередной раз поднялась температура. А мне надо было уезжать с Роланом на съемки, поэтому пришлось опять отдать его маме. И что я услышала от нее? «Ты дрянь, последний человек, вместо того, чтобы заботиться о больном ребенке, кому ты отдаешь свою жизнь?» Позже я уже в открытую попыталась вернуть сына. Мы встретились около Бюро пропаганды киноискусства — я, мама и папа, который держал Пашу за руку. Я хотела его взять и протянула руку, но папа меня ударил по ней. Не сильно, но вполне достаточно, чтобы я отступила. Не буду же я драться с папой, которого обожала. И тем не менее Паша оказался со мной и с Роланом, причем произошло это без особого надрыва с маминой стороны. Однажды Паша
гуляя, зашел к нам. Мы тогда жили на улице Черняховского, недалеко от моих родителей. В нашей новой квартире шел ремонт. Я, конечно, захотела его накормить, говорю: «Давай, сынок, вымой руки». Даю Паше полотенце, и вдруг он мне сказал: «Мам, почему мы не вместе?» И мы как вцепились друг в друга — не оторвать. Я поняла, что больше без него просто не смогу: «Сынок, мы не расстанемся никогда». В этот же вечер у Паши поднялась температура. Я позвонила маме, сказала, что ребенок заболел и останется здесь. И Паша уже туда не вернулся. Ему было 11 лет.
Не сразу, но постепенно наши отношения с мамой потеплели. Иногда она подолгу общалась с Быковым по телефону, после чего он мне говорил: «Да замечательная тетка!» Но главное, мама была очень благодарна Ролану за его отношение к Паше. Под конец жизни она стала такой слабой, что
позволила мне заботиться о себе, как о маленькой. К сожалению, это продолжалось недолго. Папа пережил маму на 10 месяцев. Умирал от рака легких, очень тяжело — ни вздохнуть, ни выдохнуть не мог. Последние две недели он провел в нашем с Роланом доме. Когда стало совсем плохо, приехала «скорая», врач сказал: «Всеволод Васильевич, поедем в больницу, сделаем укол, кислородную маску подключим». Но папа отказался: «Нет, умру дома, с Лелей, с Роланом».

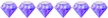












 Больше всех мне понравился- Михаил, я так расстроилась, когда решила, что его Гаврии убил, но все закончилось хорошо
Больше всех мне понравился- Михаил, я так расстроилась, когда решила, что его Гаврии убил, но все закончилось хорошо 


 А "Ангел света" не желаешь посмотреть?)
А "Ангел света" не желаешь посмотреть?)








